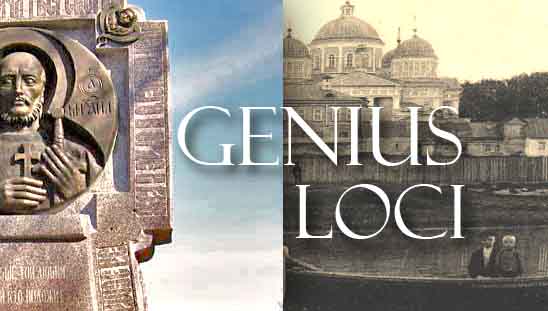2014
Дорогу в Христорождественский монастырь из Затьмачья обычно прокладывают через Монастырский мост. Но если вы желаете увидеть любопытный уголок старого города, перейдите Тьмаку по историческому мосту 1902 года в створе Беляковского переулка. Река, стиснутая узкими берегами, пенится и бьется на последней сравнительно уцелевшей деревянной плотине, безобразно заваленной мусором, но в главном – подлинной. С моста открывается панорама «Мануфактуры Берга», позже «Вагжановки».
Исторические здания фабричного городка – родные братья и сестры «Морозовских казарм», но масштаб здесь меньший. Сама по себе мануфактура московских купцов Каулина и Залогина (позже - Берга) основана в 1853 году, первой в городе (морозовская – в 1858). К масштабному строительству социальных объектов приступили здесь одновременно с Морозовыми – после 1905 года. Теперь казармы являются общежитиями, с очень пестрым составом обитателей.
Между казарм можно выйти на улицу Спартака (Рождественская слобода или Каулинские горки), в этой части она очень старая, почти того же времени, что и улицы Затьмачья. Последние дома у монастыря – бывшие священнические (в монастыре служило белое духовенство, обычно два священника). Дом №4 показывает, что уже на рубеже XVIII-XIX вв. улица была, и на ней были даже такие каменные дома как этот.
Улица ориентирована на собор Христорождественского монастыря, причем при смене старого собора 1772 года на новый храм 1811-1820 гг. ориентация полностью сохранилась. На этой же оси улицы была и монастырская колокольня (сейчас ее собрались восстановливать на несколько метров севернее из-за подземных коммуникаций на старых фундаментах). В таком состоянии, как на фото ниже, стройка законсервирована и остановилась.
Как любой нормально функционирующий туристический или паломнический объект, Христорождественский женский монастырь имеет написанную для туристов историю. И она написана для него неплохо, без грубых ошибок. Поэтому напоминать ее еще раз незачем. Небольшой фоторяд с монастырского сайта - все-таки очень интересно вглядываться в лица тех, прежних, монахинь - почти всем им довелось увидеть разорение и репрессии...



А теперь немного исторических деталей. Сейчас монастырь, после долгих лет запустения, на глазах превращается в «конфетку». Возможно, так должно быть по правилам современного существования монастыря в большом городе. Он должен быть местом, где старой красивой архитектуре отводится достойное место, куда можно прийти подумать о вечном, где, наконец, можно не задумываться о погибающем историческом и культурном наследии России. На деле в любом историческом месте огромное число проблем, и непонятно, где их меньше – там, где нет денег на реставрацию или там, где они есть.
К большому сожалению, с точки зрения архитектуры ансамбль хоть и замечательный, но поздний. Сооружений не то что древних, а даже настоящего XVIII века в нем нет. Те, что есть – это воспроизведение утраченных зданий XVIII века (так воспроизведены башни ограды). Но имеющиеся поздние постройки далеко не рядовые для своего времени. Чего стоит россиевский собор с поздней, но интересной росписью (сейчас реставрируется) в палехском стиле XIX века. Кстати, роспись устроена на средства тех самых Каулиных, которые основали "каулинскую" фабрику.
Хорош и корпус с надвратной Спасской церковью (1800, ее приписывают иногда Н.А. Львову, но это, очевидно, кто-то из его подражателей, тот же Андрей Трофимов). Но кто бы ни был ее автором, церковь-ротонда любопытная и редкая. Еще одна церковь – Троицкая (1833), сейчас крестильня, у нее интересны подлинные колонны в интерьере, а когда-то был, видимо, полукруглый иконостас. За ней, с юга в линии ограды, пока не отреставрированная Никольская церковь (1882) – приходская для слободы Пески. Практически исчезли деревянные домики сестер, но они появились в ансамбле поздно – лишь в конце XIX века, и утрату их можно пережить.
Монастырь включен в программу реставрационного финансирования из федерального бюджета «Культура России». Плюс его реставрация несколько раз ускорялась благодаря очередным церковно-общественным событиям. Из всех монастырей Твери он единственный уцелел хоть с какой-то степенью полноты – поэтому вниманием Христорождественская обитель пользуется. Проект охранных зон разработан А.М. Салимовым. При всем том монастырь существует достаточно трудно, ибо благостное время, когда он был в пригороде, давно миновало, а нынешний город в этой своей части таков, что кварталы вокруг обители – одни из самых социально неблагополучных. Настоятельница игуменья Лариса (Лобанова) (на фото ниже в центре)

...рассказывала, как шприцы, брошенные наркоманами, приходилось регулярно просто выгребать с паперти, воровство же всего, что не закреплено и положено без догляда, принято до сих пор. Сложилась с XIX века, закрепилась в советское время и продолжается практика существования этой территории как проходной – через монастырь кратчайший путь к Морозовским казармам от Монастырского моста. За монастырем на берегу Тьмаки находились Рождественские ворота Морозовского городка, и рабочие всегда ходили через них в город. Вопрос – какие были рабочие тогда и теперь… Поэтому сейчас здесь, увы, сплошные вынужденные заборы.
Большой и похожий на колокол Воскресенский собор (1913-1916) выполняет теперь роль кафедрального храма, а с Христорождественским монастырем он не связан, это разные подразделения епархии. Как кафедральный собор он, понятно, не на месте, неудобен, а из-за отвратительной акустики еще и нефункционален, но так сложилось. В середине 1980-х гг. предполагался обмен Белой Троицы после реставрации на это сооружение, однако переезд тормозился, тормозился… и так и остались все храмы действующими, что, думаю, правильно. Собор набит святынями, но как-то это не очень содействует его популярности, бывает, что служащих, поющих и торгующих в нем больше, чем прихожан. Кроме как во время богослужений попасть внутрь нельзя.

Мне этот храм не нравится. Изначально непродуманный, не предполагавший, что при нем будет община, большой храм строился для воспитания у верующих рабочих чувства патриотической гордости за империю. Вкладывали в него именитые лица, включая императорскую семью, освящали с большой пышностью и множеством почетных гостей, но… уже в начале 1920-х в нем бодро стучали столовскими ложками советские беспризорники и пионеры, а под куполом на цепи от паникадила висела модель дирижабля.

После этого собор использовался как музейное хранилище, и тут в 1941 году произошло главное чудо музейного быта времен войны – весь фонд драгоценных металлов (ризница XVI-XVIII вв.) благополучно пережил оккупацию в пломбированных ящиках. То есть немцы сюда зайти, похоже, так и не успели (они вообще редко заходили на Пролетарку, всего несколько раз пробовали устраивать среди населения проверки, ничем не кончившиеся). А позже тут хранился фонд икон картинной галереи и музея. Из этого фонда столичные музейщики брали в 1960-1970-х не стесняясь – но и то сказать, состояние большинства икон в этих фондах было далеко не блестящим. Последнее, что тут было заново «обретено» перед передачей собора епархии – остатки иконостаса Преображенского собора 1696 года, но в таком состоянии, что реставрация великолепных огромных образов работы мастеров школы Оружейной палаты может растянуться на десятилетия. (На фото ниже - финифтяная накладка на Евангелие конца XVIII века из Преображенского собора, одна из тех вещей, которая как раз уцелела в пломбированных ящиках в 1941 году).

За Воскресенским собором стоит невероятно знаменитый среди архитекторов и совершенно не популярный среди туристов объект – Дворец Пионеров Ивана Леонидова – один из фундаментальных памятников советского конструктивизма (1929).
В Твери вообще мало образцов такого стиля – по-моему, поскольку город по своей идее предполагает другое, и скорее классику, чем авангард. Но этот объект имеется, и до сих пор выполняет культурно-досуговые функции (спортшкола).
С ним случилось то же, что и с домом Корбюзье на Мясницкой в Москве – он потерялся в советском городе. То, что когда-то было верхом новаторства и острием архитектурной мысли, через немногие десятилетия стало плохо отличимо от бесчисленных штампованных подражаний. При всей горячей любви к этому стилю (это действительно великий стиль) я с большим удовольствием, чем шедевр Ивана Леонидова отыщу на соседних улицах домики с лошадками на наличниках, палисадники и резные подзоры карнизов. Потому что такая архитектура как у Дворца Пионеров, слава Богу, пока жива и здорова, а домики исчезают – и вероятно, навсегда.
© Павел Иванов
Продолжение следует...
|
Метки: genius_loci |
Для печати
К началу |
|
- Христорождественский монастырь (кон. XVIII-нач. XXI)
- Спартака (Рождественская Слобода, Каулинские Горки) ул. Историческая застройка (кон. XVIII-нач. XX)
- "Genius loci". Часть XXVIII. Очарование старого города
- "Genius loci". Часть XXIX. Белая Троица и церковь Покрова