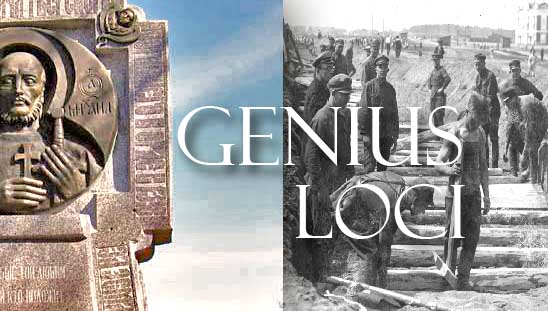2014
…Ранним утром 2 марта 1917 года солдаты двух запасных полков (57-го и 196-го) расквартированных на окраине Твери, получили известие об отречении Николая II. Почти мгновенное получение столь важного сообщения стало возможным благодаря расположению рядом радиостанции, одной из первых в России, построенной, кстати, в военных целях в 1915 году. Поразительное головотяпство начальства, разместившего донельзя распропагандированные пацифистскими лозунгами полки в часе ходьбы (неспешной!) до центра города со стотысячным населением, принесло ужасающие плоды. Солдаты вышли из-под контроля. Даже небольшого количества оружия, которое было изъято у офицеров и в оружейных комнатах, оказалось достаточно, чтобы толпа почувствовавших пьянящий вкус свободы и вседозволенности молодых людей легко прорвалась к городу. Блокировать эту выходку оказалось некому и некогда. В отличие от 1905 года, в городе уже не было верных правительству частей вроде Лейб-Драгунского полка, который, в сильно поредевших рядах, стоял теперь на Западном фронте. В мае 1905 года одна демонстрация силы (маневры этого полка) заставила ретироваться несколько сот разогретых вином и лозунгами «борцов за народную волю», намеревавшихся прорваться в город со стороны фабрик. В 1917 году останавливать бунтовщиков было некому. Да и воля к сопротивлению у власти была парализована известием об отречении Государя. Губернатору Николаю Георгиевичу фон Бюнтингу оставалось только выйти к толпе и принять мученическую кончину. Это был его нравственный выбор.

История революции не является целью нашего рассказа. Но мы находимся в таком месте Твери, которое «породило» революцию 1917 года, было архитектурно оформлено в первые послереволюционные годы, а ныне, как никакое другое место в Твери, дает представление о том странном и смутном времени.
Запасные части располагались там, где и теперь остался так называемый «29-й городок» - он и сейчас остается в военном ведомстве. Городок расположен между Волгой и проспектом Ленина, занимая немалую площадь. Уже в 1917 году это было не пустое место. Рядом с ним находилась прядильно-ткацкая фабрика Залогина («Переволоцкая мануфактура»), небольшая, но все-таки насчитывавшая более четырехсот рабочих (у Морозовых – около восьми тысяч). Рядом с фабрикой выросла слободка – остатки ее существуют и сейчас, это Республиканские улицы, а прежде они были Желтиковские. От старой мануфактуры осталось так немного, что неискушенный турист, да и горожанин, ее и не найдет. В эту фабрику упрется улица Бобкова, а внимательный глаз заметит несколько совсем ветхих деревянных бараков рабочих.

Здесь, пожалуй, самая дальняя от центра рабочая слобода Твери. Появилась она в 1 четверти XX в. на месте очень реденького сельского жилья при мануфактуре и вдоль Старицкого шоссе. По своим нынешним признакам – это типичная городская окраина. 1980-1990-е добавили сюда блочно-панельных домов, в южной части на редкость некстати «воткнутых» в самое болото (с подсыпкой грунта). На соседних улицах частной застройки уцелело побольше. Ручей, впадающий в Волгу, и соседство с сосновой рощей добавляло этому месту сельского колорита.

Итак, возле этой слободы, между ней и Волгой, располагалось поле, куда в Первую Мировую поселили военных. Оно называется «Желтиково поле». Довольно любопытно, что в Твери топоним «Желтиково» распространен на обширное пространство, по обоим берегам Тьмаки. Есть Желтиковская улица, о которой мы только что сказали, есть деревня Желтиково (о ней будем говорить впоследствии), старые жители знают Желтикову (а не Первомайскую!) рощу. И понятно, есть (вернее, был) Желтиков монастырь (о нем тоже попозже).

Советский генплан Александра Иваницкого 1927 года видел здесь «альтернативный центр» города. В стороне от старого «буржуазного» города строился новый. Само название его главной оси – проспект Ленина – говорит о многом. Это никак не окраина, точнее, это – превращаемая в центр окраина. Проспектом Ленина эта магистраль стала в начале 1950-х гг., но и старое название – проспект Ворошилова – несло в 1930-1940-х гг. ничуть не меньшую символическую нагрузку. Фабричные рабочие «Пролетарки» (кстати, очень мало принимавшие участие в февральских событиях 1917 года, все-таки морозовская социальная политика принесла свои плоды) получили «право на роскошь» при новой власти. И застройка бывшего Желтикова поля неожиданно роскошна.
Уже в 1920-х гг. началось бурное строительство многоквартирных домов. Строительство продолжилось в 1930-х, а потом в 1940-х, а потом в 1950-х, и в начале 1960-х. Дальше свободные места закончились, и «панельки» появились здесь лишь в виде исключений на последних свободных местах. Так это место стало «заповедником» советской архитектуры.
Забавно, что новый советский город строился там, где началась Февральская революция в Твери. Большевики не очень жаловали Февральскую революцию. И то сказать – это был, в сущности, солдатский бунт на почве аномальной правительственной слабости. Ни одного памятника "революционно-настроенным солдатам" в Твери не появилось - ни в 1920-х гг, ни тем более позже. Однако власть поставила им (и себе) памятник другого рода. Чуть только экономика советской России начала дышать более-менее ровно, а официальная история революции начала костенеть в формуле «от Февраля к Октябрю», как именно сюда были направлены усилия по монументальной пропаганде новой власти. Да-да, именно пропаганде. Ибо архитектура лучше всего демонстрирует, что из себя представляет власть, и чего она хочет.
В Твери почти не было домов-коммун. Факт любопытный и показательный. Советское строительство началось в нашем городе не с воплощений несбыточной мечты о жизни друг у друга на головах как пчелы в улье, а с вполне себе квартирных домов, до мелких подробностей напоминающих самые поздние морозовские казармы. Казармы и были тут поблизости – 4-я, 43-я, 177-я. Слишком хорошие, слишком новые, вопиюще свидетельствующие о мощи дореволюционной империи и ее возможностях в социальной сфере. Строить в 1920-х гг. иное – значило проиграть негласный спор с Морозовыми, которые задали такую высокую планку комфорта. Это 43-я казарма:

И вот на нынешних улицах Ржевской, Буденного, Бобкова появились любопытные дома, потомки тех казарм. Они стоят и сейчас. Их шесть, они парные и практически одинаковые по архитектуре. В дополнение к ним появились еще два дома, занимающих более важные в градостроительном отношении участки (Бобкова, 2, Кирова, 5). Всего перед войной было построено полтора десятка домов, заметно изменивших вид Желтикова поля. Их значение было бы большим и теперь, если бы вид перед ними со стороны улицы Кирова и проспекта Ленина не закрывали более поздние здания. Вот один из ранних домов, на Кирова, 5, - грубовато ремонтированный, но все же дающий представление об архитектуре середины 1930-х.
Что можно сказать о них? Казармам они, безусловно, не проигрывают. В деталях кладки, отделки, общей высокой строительной культуре эти здания все целиком принадлежат еще той, прежней России. Нужно сильно приглядеться, чтобы скорее уловить, чем увидеть что-то другое. Другое – в большем просторе кварталов, в ширине улиц, в чуть-чуть большей, чем в казармах, сухости и однообразии деталей. И еще – в напрочь отсутствующем ансамбле.
Чего нет в раннем Кировском поселке, или, как его знают меньше, в поселке «ФУБРа» (Фонда улучшения быта рабочих, который и строил эти дома, а проектировал их фабричный архитектор В. Голубов), так это целостности. Можно попытаться, конечно, увидеть в них ансамбль. Но это удастся, только если учитывать и послевоенные здания вокруг. Например, в «фубрах» интересны все перспективы. Перспектива улицы Буденного – на кинотеатр «Спутник»,
Ремесленного переулка – на ремесленное училище (кстати, очень редкий в Твери настоящий конструктивистский памятник, хотя и попорченный ремонтом).
Но эти перспективы – не задумка архитекторов 1920-1930-х. Это то, что смогли создать их преемники в 1940-х. «Не-ансамблевость» «фубров» в какой-то момент перестала отвечать задачам монументальной пропаганды. Если вы прогуляетесь по этому району, вы, скорее всего, почувствуете, как менялось дыхание времени. Рядом с «почти-казармами» стоят несколько современных им домов самого простого проекта (например, Буденного, 7 и 7а). И не очень понятно, чего ради было полные «архитектурных излишеств» дома (они, к примеру, напротив, на Буденного 4, 6, 8) строить по соседству с такими предельно аскетичными строениями.
Видимо, это поняли уже очень скоро. В конце 1940-х у «фубров» появился фасад. И этот фасад – неоклассические дома №№10-16 на Бобкова. Эти дома, а также маленькие «сталинки» за ними, по Боровым улицам, оформили район 1920-1930-х гг., загородив его чем-то вроде ширмы. Кстати, ансамбль на Бобкова очень хорош, не однообразен, соразмерен человеку. Когда-то, когда перед домами были цветники и скульптуры, был он еще лучше.
Но, как постоянно используемая икона, этот ансамбль неоправданно быстро стал жертвой «поновителей». Застройка проспекта Ленина – пример архитектуры другого стиля и другого времени. Весь проспект - отдельные роскошнейшие «сталинки» в окружении хрущевок. Сначала, гуляя здесь, непонятно, почему так получилось: параллельно превосходно застроенной второстепенной улице (Бобкова) на главной (Ленина) на протяжении пятнадцати лет (1944-1959) почти ничего не строилось. Да, но так ли это? Каким хотели видеть проспект Ленина в 1940-х гг.?

Если мысленно отсечь хрущевско-брежневскую жилую застройку, то получим на проспекте Ворошилова-Ленина конца 1940-х гг. что-то очень похожее на среднюю часть проспекта Чайковского с его огромной шириной, зеленой зоной шириной в квартал, крупными общественными зданиями (два ДК, кинотеатр, детская больница, две школы, торфяной институт, монументальные здания казарм и полиграфкомбината).
Кажется, что площадь с памятником Ленину у 29-го городка напротив главного фасада торфяного института (технического университета, «политеха») – это и есть фрагмент того проспекта, которым он задумывался весь, от железной дороги до полиграфкомбината. По сути, это цепочка огромных площадей, разделенных крупными общественными зданиями и комплексами. Немыслимая в наши дни строительная роскошь, высокая «элитарность» градостроительных решений, ориентир на императорские viae и форумы Рима. За этой ширмой совсем исчезли старые «фубры».
Но во второй половине 1950-х гг. советская имперская идеология начала быстро сдавать. И застройка, едва успев начать рождаться, сразу пала жертвой «борьбы с излишествами». «Форумы» проспекта Ленина застроили. Очень немногое успели выстроить здесь еще в классическом стиле (всего несколько жилых домов). А дальше пошли хрущевки. Они здесь еще поставлены людьми, привыкшими хорошо и качественно строить. Именно их фасад определил проспект, задуманный едва ли не как главная советская улица Калинина. Есть в этих хрущевках что-то такое, что делает их главный ансамбль (это Комсомольская площадь) действительно архитектурно значимым. Если когда-то встанет вопрос, сносить ли хрущевки в городе и в какой последовательности, пожалуй, нужно однозначно сказать: эти – нет, только реконструировать.

Массовый потребитель победил. Победила утилитарная потребность в жилье, в квартире, а не в общественном городском пространстве. И дело не в том, что проживи Сталин подольше, может быть, проспект успели бы застроить получше. Его бы застроили все равно, как застроили императорские форумы Рима и Константинополя. Но только бы еще хуже.
И чем дальше мы пройдем по этому проспекту (там он будет называться «50 лет Октября»), тем более унылым и откровенно безвкусным будет его архитектурный облик, несмотря на бодрые мозаики на торцах пятиэтажек с советскими лозунгами, пережившими уже и страну, и людей, которые в них почти и не верили.

Советский воспитательный проект, декларировавший воспитание из «темной солдатской и крестьянской массы» (которая как раз и породила революцию 1917 года) осмысленных горожан-пролетариев, которые брали бы лучшие черты и от граждан античного полиса, и от ремесленников Средних веков, и от самих большевиков (жертвенный дух и строгую партийную дисциплину), с треском рухнул. И нужно быть слепым, чтобы, осматривая застройку разных лет, не видеть, с какой неизбежностью закладывалось крушение этого проекта уже в начале 1960-х...

© Павел Иванов
Продолжение следует...
Фото автора и скрины с Яндекс-панорам. Ретро-фото 1930-1960-х гг. взяты с сайтов Городского электротрнаспорта ("transphoto"), История пассажирского транспорта в Твери.
|
Метки: genius_loci советская_архитектура |
Для печати
К началу |
|
- "Genius loci". Часть XIX. На вокзал!
- "Genius loci". Часть XXXIII. Город рабочих
- "Genius loci". Часть XVIII. Наследие Победы
- "Genius loci". Часть XVII. Пропилеи империи
- "Genius loci". Часть XXXI. Фабричный город